Григорьев В.Н., Зинченко И.А. Нужны ли уголовно-процессуальному праву нормы – дефиниции?

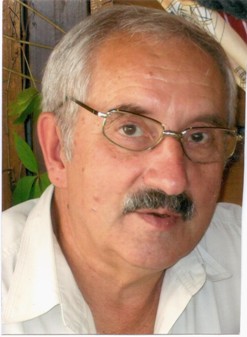 Анализируется специфическая группа норм российского уголовно-процессуального права, в которых формулируются дефиниции наименований и терминов. Предложен дифференцированный подход к характеристике норм-дефиниций, обусловленный их содержанием и значением в механизме правового регулирования. Делается вывод о том, что включение норм-определений в УПК РФ является одной из тенденций, которая в перспективе может быть подвергнута корректировке: дефиниционные нормы, представляющие ценность для реального уголовного производства, трансформировать в нормы регулятивные.
Анализируется специфическая группа норм российского уголовно-процессуального права, в которых формулируются дефиниции наименований и терминов. Предложен дифференцированный подход к характеристике норм-дефиниций, обусловленный их содержанием и значением в механизме правового регулирования. Делается вывод о том, что включение норм-определений в УПК РФ является одной из тенденций, которая в перспективе может быть подвергнута корректировке: дефиниционные нормы, представляющие ценность для реального уголовного производства, трансформировать в нормы регулятивные.
В основу материала положена статья: Григорьев В.Н., Зинченко И.А. Нормы-дефиниции: нужны ли они в уголовно-процессуальном праве? (компаративистский взгляд) // «Международное уголовное право и международная юстиция», 2017. № 4. С. 3 – 10.
Григорьев Виктор Николаевич - доктор юридических наук, профессор (г. Москва);
Зинченко Игорь Анатольевич - кандидат юридических наук, доцент (г. Калининград).
«Дедукция из вдохновенных книг – это метод
достижения истины, которым пользуются юристы,
христиане, последователи Мухаммеда и коммунисты».
Бертран Рассел
1. Одной из тенденций отечественного уголовно-процессуального законодательства, как, впрочем, и еще не далеко ушедшего от него законодательства государств ближнего зарубежья, является закрепление в тексте УПК РФ специализированных норм – норм-дефиниций (норм-определений). Одна их часть сосредоточена в статье 5, специально созданной для разъяснения «используемых в настоящем Кодексе» понятий, другая – рассредоточена по его тексту.
В УПК РФ определяются (или лучше сказать разъясняются) отдельные термины, наименования субъектов уголовно-процессуальной деятельности, категории доказательственного права, содержание мер принудительного характера, цели производства следственных действий и многое другое.
Законотворцы, вслед за учеными-процессуалистами, стремятся по возможности закрепить как можно больше легальных дефиниций, вероятно, полагая, что в результате этих усилий закон станет совершеннее и комфортнее в правоприменении.
В разработке новых понятийных норм стремятся проявить себя и маститые ученые, и начинающие авторы. С большой долей уверенности можно даже утверждать, что сегодня ни одно диссертационное или иное исследование, не говоря уже о масштабных проектах, не обходится без формулировки предложений о включении в Кодекс все новых и новых норм-определений. Ситуация такова, что инициативам именно такого рода в доктрине зачастую отдается предпочтение, а излюбленный прием в многочисленных понятийных дискуссиях – споры о словах. Жестокой экзекуции, например, продолжает подвергаться легальная дефиниция «доказательство». При обсуждении только одного ключевого в ней слова уже были применены все мыслимые синонимы – «данные», «фактические данные», «сведения», «информация». Образчиками подобного рода могут служить навязываемые законодателю словосочетания синонимического ряда: «технические», «технико-криминалистические», «научно-технические», «технические в широком смысле слова» средства и др.
Выдвигаются инициативы о закреплении в законе таких терминов как «уголовно-процессуальная форма», «источники доказательств», «источники осведомленности», «результаты оперативно-розыскной деятельности»,"залогодатель", "защита", «отвод» и т. д. Дело дошло до предложения о размещении в процессуальном законодательстве дефиниции «таких базовых криминалистических категорий как человек и человеческая деятельность»*. Интересно, какой видится практическая реализация автору этой инициативы? В какую структурную единицу УПК РФ ею предполагается включение названных дефиниций? В ст. 5 нельзя, поскольку в ней разъясняются лишь «понятия, употребляемые в настоящем Кодексе». Создать новую процессуальную фигуру – допустим, человек – абсурд: все участники уголовного судопроизводства – физические лица – люди.
В принципе известную часть одних и тех же правовых предписаний в законодательстве можно воплотить двумя различными языковыми способами – в форме традиционной юридической нормы либо в форме нормы-дефиниции. В механизме правового регулирования предпочтителен первый вариант, однако в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве пальма первенства, к огорчению, отдается второму. Более того, именно его можно характеризовать как тенденцию.
2. В специальной литературе наличествует немало мнений, авторы которых высказываются «за» или «против» включения в УПК РФ какого-либо нового определения/термина либо настаивают на исключении из Кодекса уже существующей в нем понятийной нормы.
Оценка норм-дефиниций в праве отчасти зависит от мировоззрения исследователя, обусловливающего преследуемую им цель. Те, кому нормативный акт представляется «священной книгой» скорее будут склонны в позитивном ключе комментировать законодательство. Мы же к своему анализу норм УПК РФ хотели бы подключить их языковую характеристику.
С лингвистических позиций уголовно-процессуальные кодексы различных (а уж тем более соседних с Россией) государств изложены одними и теми же категориальными языковыми средствами, с использованием одних и тех же слов и выражений, т.е. общей для них для всех юридической фразеологии. Не частые, но понятные и объяснимые терминологические различия, конечно, неизбежны (например, лишь в УПК Грузии мы встречаемся с фигурой судьи-магистрата, в УПК Казахстана – с процессуальным прокурором, в УПК Латвии – с направляющим процесс лицом, в УПК Молдовы – с пострадавшим и протоколистом)**.
Кроме того, в ряде ситуаций в отдельные совпадающие по семантике термины законодатели различных государств могут вкладывать различное специальное значение. Например, словосочетание «уголовное дело» в п. 27 ст. 7 УПК Казахстана трактуется как обособленное производство, ведущееся органом уголовного преследования и/или судом. Это одно из устоявшихся в теории права его значений. Однако, согласно волевому решению законодателя Украины (ст. 317 УПК этого государства), уголовным делом должны именоваться лишь прилагаемые к обвинительному акту материалы судебного производства.
Законодатели, помимо терминологических приемов, могут прибегать и к специфическим смысловым средствам. Так, материалы записи телефонных переговоров по УПК РФ есть вещественные доказательства, а в иных кодексах они признаны документами. Но эти примеры – объяснимое исключение. В целом же уголовно-процессуальная терминология в различных языковых системах едина, поскольку один и тот же понятийный аппарат предполагает применение одинаковой терминологии.
Необходимо, конечно, принимать во внимание тот факт, что использованные или осуществленные нами самостоятельно переводы фрагментов УПК зарубежных государств могут быть не в полой мере аутентичны языку оригинала (хотя мы и стремились к максимальной точности в этой работе). На русском же языке, как известно, официальные тексты законов принимаются лишь парламентами Беларуси и Казахстана, а в Киргизии русский язык имеет статус официального.
(Заметим, кстати, – в зарубежной юридической литературе широко применяется так называемый функциональный перевод зарубежного законодательства, «квинтэссенция которого заключается в точном и систематическом переводе смысла, а не буквы закона» [4, с. 5]).
3. Отношение специалистов к росту числа дефиниционных норм, в частности, в ст. 5 Кодекса в целом остается положительным. Так, авторы одного из комментариев к УПК РФ называют увеличение количества толкуемых законодателем терминов «шагом вперед» и отмечают: «Если предтеча настоящей статьи – ст. 34 УПК РСФСР истолковывала 17 употреблявшихся в УПК терминов понятий, то комментируемая статья толкует 65» [1, с. 37].
С огорчением вынуждены констатировать – число терминов авторами определено неверно: в последней редакции в УПК РСФСР 1960 г. их было 18, а в период издания цитируемого комментария к УПК РФ – 69. И уж, коль скоро речь у нас пошла об арифметических подсчетах, отметим: на момент подготовки рукописи настоящей статьи в структуре ст. 5 УПК РФ, с учетом включенных и исключенных из нее позиций, содержится 73 пункта. В первоначальной редакции действующего Кодекса их было 60. В представленном в ГД РФ Проекте УПК РФ статью 5 составляли лишь 27 позиций, а по итогам первых двух чтений их число возросло до 59.
Схожую проблему, касающуюся целесообразности закрепления общих правовых положений в уголовно-процессуальном законодательстве, анализирует А.В. Победкин. Автор настаивает на значимости регламентации понятийных положений, потому, что «конкретный следователь, дознаватель, прокурор и судья не понимают цели своей деятельности, не осознают ее конкретный результат, не могут правильно толковать уголовно-процессуальный закон в контексте его смысла» [2, c. 211].
Как отнестись к подобным аргументам? Невольно приходится озаботиться вопросами об образованности и профессионализме, о государственном, служебном долге и в целом о принципиальной возможности допуска к служению Фемиде «ничего не понимающих и не осознающих» правоведов – сотрудников органов уголовной юстиции. Более того, если таковые в родном отечестве и существуют, то стоит ли рассчитывать на их усердие в штудировании понятийных норм уголовно-процессуального и иных отраслей права? Уж не создать ли в Кодексе (в качестве его «словарного» раздела) для правого ликбеза специальную главу, предназначенную для разъяснения правоведам уголовно-процессуальной терминологии, или снабдить его соответствующим приложением, показав заодно, где в словах правильно ставить ударение? Только вот незадача – тяжеловато будет разграничить термины права, отрасли права, науки об отрасли права, общенаучные понятия и т.п. Кстати, в ч. 2 ст. 3 УПК Украины «Определения основных терминов Кодекса» прямо оговорено: «Прочие термины, употребляемые в настоящем Кодексе, определяются специальными нормами этого Кодекса или иными законами». Так и хочется продолжить эту фразу словами: «Если и там их не окажется, то ищите разъяснения в справочной и учебной литературе».
Мы помним: язык закона должен быть понятен не только судьям, прокурорам, следователям, дознавателям и адвокатам, но и иным участникам уголовного процесса и гражданам, в частности, тем из них, чьи интересы затрагиваются производством по уголовному делу. Уместно вспомнить и о лицах, не владеющих или недостаточно хорошо владеющих языком судопроизводства. Но в этом нет ничего экстраординарного: из названных особенностей вытекают соответствующие правовые обязанности государственных органов и должностных лиц.
В этой связи поставленные вопросы, вероятно, целесообразно сформулировать в иной плоскости: о закреплении в УПК РФ каких конкретно наименований и терминов идет речь, и какова их роль в механизме правового регулирования уголовно-процессуальных отношений?
4. Тенденция к закреплению в УПК норм-дефиниций не нова, она начала формироваться после октября 1917 г. Должны констатировать: в Уставе уголовного судопроизводства Российской Империи 1864 г. (далее УУС) норм-дефиниций не было. Думается, не секрет, каким образом практикующие юристы того периода времени – судьи, прокуроры, следователи, адвокаты – получали представление об используемом ими понятийном инструментарии: они имели соответствующее образование. Надо полагать, считалось избыточным в законодательстве о судопроизводстве растолковывать профессионалам, что такое уголовный закон или уголовное судопроизводство, доказательство или доказывание, вещественное доказательство или документ, кого считать следователем или руководителем следственного органа, потерпевшим или обвиняемым, гражданским истцом, гражданским ответчиком либо его представителем. Хотя проблемы правоприменения, должно быть, и возникали. Не могло, например, не требовать уточнения правило, закрепленное в ст. 111 УУС, согласно которому осмотры, освидетельствования, обыски и выемки проводятся днем, за исключением случаев, не терпящих отлагательств.
Приложив усилия, в УУС можно отыскать единичные толкования отдельных «понятий». Например, в ст. 78 УУС было закреплено: «Поручительство состоит в принятии на себя поручителем денежной ответственности в случае уклонения обвиняемого от суда». В ст. 79 УУС говорилось: «Залог должен состоять в деньгах или движимом имуществе и может быть представлен как самим обвиняемым, так и всяким другим лицом». Эти примеры – редкое исключение. Кроме того, в них усматриваются признаки диспозиций уголовно-процессуальных норм. Отсюда мы делаем вывод: включение в отечественное уголовно-процессуальное и иное российское законодательство норм-определений есть плод законотворчества советского периода.
Впервые включенная в УПК РСФСР 1923 г. специальная «понятийная» статья (ст. 23), как и все остальные статьи этого Кодекса, наименования не имела. Разъясняемые в ней словосочетания и слова назывались «терминами» (в первой фразе этой статьи) или «словами» (в последующем тексте). Размещались эти термины/слова не по алфавиту, а по той значимости, какой она виделась создателям этого нормативного акта.
Мы не связываем появление в Кодексе разъяснительных норм исключительно с резким падением уровня подготовки юридических кадров в молодой советской России или, допустим, с необходимостью пояснения выходцам из рабочих и крестьян специфики юридической фразеологии. Хотя, и то, и другое, должно быть, имело место, но в послереволюционный период анализируемая тенденция – закрепление в законе дефиниционных норм – лишь зарождалась. Последствия же ее, в том числе и в юридическом образовании, и в науке о праве, дали о себе знать несколько позднее. Даже активно обсуждаемая и критикуемая ныне дефиниция «доказательство» в 50-е годы прошлого столетия в учебной и справочной литературе характеризовалась сдержано. Например, в одной из наиболее солидных юридических энциклопедий того периода времени, в обширной словарной статье «Доказательство» оно определялось как «1) доказательственные факты, т.е. факты, устанавливающие или опровергающие те обстоятельства, которые должны быть исследованы в деле и 2) средства доказывания» [3, с. 181].
Плоды усердия юристов нового поколения с лихвой реализовались позднее – в период кодификации уголовно-процессуального законодательства 1958-1961 г., причем в более широком контексте – в закреплении в текстах законов не только определений и разъяснений, но и идеологем, и норм-принципов. Причины тому разные. Можно даже допустить, например, что рабочие группы по подготовке Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (а затем и кодексов) в значительной степени состояли из ученых, трудившихся в вузах. Для их мышления стереотипной была формулировка прогрессивных для своего времени определений всех возможных понятий, точно так, как делали они это в преподавании курсов «Советский уголовный процесс», «Советская криминалистика» и иных учебных дисциплин.
Думается, побудительной силой для создания в УПК РСФСР 1923 г. статьи 23 послужила ликвидация существовавших ранее и появление новых органов уголовной юстиции с новыми их наименованиями в советской России. В самой общей характеристике можно отметить, что в пяти из двенадцати пунктов данной статьи разъяснялись наименования органов и лиц, осуществлявших производство по уголовным делам (народный суд, революционный трибунал, народный судья и народный заседатель, народный следователь, состоящий при губернском суде и др.). В трех – перечислялись субъекты, олицетворяющие «стороны», а также участники, которые могут выступать в уголовном процессе в качестве законных представителей и близких родственников. Еще в двух пунктах разъяснялись слова «приговор» и «определение». И в заключительном пункте – «суд I-й инстанции» и «суд II-й инстанции».
Мы уделили повышенное внимание характеристике УПК РСФСР 1923 г., поскольку он, безусловно, предопределил форму и содержание последующих российских уголовно-процессуальных актов. Не появись в нем, допустим, перечень источников доказательств и требований, предъявляемых к их оценке судом, как знать, по какому пути развивалось бы отечественное доказательственное право. В целом же, учитывая хорошо понятные чрезвычайные условия, в которых создавался этот Кодекс, ему надо отдать должное.
5. Претензий и вопросов ко многим разъясняемым в кодексах терминам и к их определениям может быть сформулировано немало. Попытаемся в рамках статьи рассмотреть некоторые из них.
Прежде всего, обсуждения заслуживает ст. 5 УПК РФ, поскольку, во-первых, как уже отмечалось, в структуре Кодекса именно она предназначена для разъяснения правоприменителям и иным субъектам используемых в Кодексе терминов. Число содержащихся в ней разъяснений неуклонно растет. Те толкования, которые законодатели государств дальнего зарубежья предпочитают размещать в комментариях к нормативным актам [например, 4], в российских законах во многих случаях включаются непосредственно в их текст. Авторы перманентно переиздаваемых учебных, методических и справочных источников не всегда даже успевают или же не берут на себя труд пересчитать соответствующее действительности количество терминов в данной статье на момент подготовки рукописей их произведений. Кроме того, во-вторых, анализ этой статьи УПК РФ позволит нам сформулировать ряд концептуальных подходов к характеристике норм-дефиниций в целом.
О самом названии статьи – «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе»? Зададимся вопросом: действительно ли в ст. 5 УПК РФ даются определения понятий и являются ли они основными?
О понятиях. В методологии науки «понятие» сочленяется с пониманием. Понятие – единица понимания, его продукт и результат. Термин же – лишь один из знаков понятия. Понятие, как отраженное в сознании единство существенных связей и свойств объекта, формируется неопределенным (в связи с различным опытом и осведомленностью познающих субъектов) множеством терминов. Знание определения термина вовсе не означает, что человек владеет понятием. (Наиболее рельефно это ощущается, например, в учебной работе при общении с аудиторией, недостаточно хорошо владеющей русским языком). Можно, допустим, в совершенстве зазубрить, запомнить определения терминов, составляющих процессуальную форму следственного осмотра, но пребывать в полной фрустрации (быть «без понятия») при необходимости их практической реализации. В этой связи, мы предпочли бы в рассматриваемой ситуации говорить о разъяснении (определении) в законе не понятий, а выраженных словосочетаниями и словами наименований и терминов.
Кроме того, наряду с действительно значимыми словосочетаниями (например, «уголовное преследование», «досудебное производство», «сторона защиты»), часть включенных в данную статью терминов («реплика», «родственники» и др.) мы не рискнули бы именовать основными. Некоторые из них, например, «непричастность», «оперативно-розыскная деятельность», «свидетельский иммунитет», встречаются в УПК РФ не более одного-двух раз. Хотя понятно, – водораздел между значимыми в юридических текстах и иными терминами размыт. Частота применения термина в тексте Кодекса – также ненадежный показатель. Допустим, понятие ночного времени применительно к уголовно-процессуальной деятельности, безусловно, требует однозначного понимания всеми его участниками и, соответственно, разъяснения в законе, хотя использование соответствующего словосочетания в УПК РФ и соседних государств единично. Сам спор о весомости того или иного слова или выражения свидетельствовал бы о его ценности для отрасли права. Ну а поскольку заниматься ранжированием терминов, включенных в ст. 5 – дело бессмысленное, вопрос может быть заострен всего лишь на изменении наименовании статьи. Здесь вывод наш таков: наречение включенных в рассматриваемую статью названий и терминов основными небезупречно.
В УПК соседних государств – бывших союзных республик СССР – даются различные названия статей аналогичных ст. 5 УПК РФ. В УПК Грузии (ст. 3) такая статья именуется «Разъяснение основных терминов». В УПК Молдовы (ст. 6) – «Термины и выражения, используемые в настоящем Кодексе». В УПК Таджикистана (ст. 6) – «Основные понятия». В УПК Туркмении (также ст. 6) – «Разъяснение некоторых наименований и терминов, содержащихся в настоящем Кодексе». В УПК Украины (ст. 3) – «Определения основных терминов Кодекса».
В УПК РСФСР 1961 г. статья 34 называлась «Разъяснение некоторых наименований, содержащихся в настоящем Кодексе». В русском языке существительное «наименование», употребляется не только как синоним названия (имени) но и в значении «позиция», «пункт», поэтому подобная редакция заголовка этой статьи не вызывает у нас возражений. Ее, вероятно, и следует использовать при условии сохранения соответствующей статьи в будущем уголовно-процессуальном законодательстве России.
Однако стержневая проблема, конечно, кроется вовсе не в названиях специализированных статей кодексов (они, как мы убедились, неустойчивы), а в наборе терминов, сосредоточенных в этих статьях и за их пределами, а также в содержании определений и разъяснений данных терминов. Это важно, поскольку нам в принципе более привлекательной представляется позиция законодателя Латвии, Узбекистана и Эстонии, исключившего из структуры УПК специализированные статьи, в которых содержатся нормы-дефиниции. (Подобные статьи отсутствуют также и в доступных нам переводах на русский язык УПК стран дальнего зарубежья). Требующие же специального толкования в самом законодательстве термины, в них помещены в гипотезы или диспозиции соответствующих норм. Так, например, разъяснение понятия ночного времени в УПК Узбекистана включено в состав диспозиции, содержащейся в п. 3 ч. 1 ст. 88 «Охрана прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций в процессе доказывания». Данным пунктом установлено, что при доказывании запрещается «производить следственные действия в ночное время, то есть с 22-00 часов до 6-00 часов, за исключением случаев …» (далее по тексту). В УПК Латвии установленное законом время суток для производства следственных действий отражено в весьма привлекательной статье 139 «Общие правила производства следственных действий». В ней говорится: «Заранее планируемые следственные действия, как правило, производятся в период с 8.00 до 20.00 часов». (Согласно ст. 6 УПК Армении, ночным считается время с 22.00 до 7.00 часов).
Таким образом, с точки зрения законодательной техники отсутствие в структуре кодексов специализированных («разъяснительных») статей не создает никаких дополнительных проблем ни для законодателя, ни для правоприменителей. Более того, в процедурном законодательстве именно такой вариант правового регулирования представляется предпочтительным.
В пользу радикального решения судьбы ст. 5 УПК РФ говорит и содержательный анализ включенных в нее норм-дефиниций. Оговоримся сразу – порядка в этом вопросе мы не находим ни в одном из анализируемых кодексов, но попытаться разобраться можно.
6. Нормы уголовно-процессуального права (в отличие от материально-правовых норм) многовариантны – неоднозначны по содержанию и форме. Они порой не поддаются восприятию с позиций традиционных подходов. Как, например, оценить фразу, включенную в состав ч. 3 ст. 15 УПК РФ: «Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты». Это, пожалуй, вовсе и не понятийная норма, и не идеологема. Тем не менее, с определенной долей условности, содержащиеся в УПК РФ нормы-дефиниции, как нам представляется, имеет смысл разделить на ряд групп, оценка которых не может быть однозначной.
Прежде всего, отметим существование в кодексах группы разъяснений, которые в них действительно необходимы. Из числа толкований, содержащихся в статье 5 УПК РФ, мы относим к ним разъяснения лишь таких терминов как «близкие родственники», «жилище», «задержание подозреваемого», «законные представители», «имущество», «момент фактического задержания», «ночное время» и «родственники». Обсуждение совершенства определения каждого из перечисленных терминов – предмет отдельного разговора. В целом же, должно быть понято, что без их однозначного толкования правоприменительная практика столкнулась бы со значительными трудностями. Не случайно аналогичные разъяснения содержатся в УПК всех соседних государств, хотя далеко не все из них размещаются в обособленных статьях кодексов. Например, нормы о продолжительности задержания подозреваемого в этих кодексах содержатся в разделах, посвященных регламентации применения мер уголовно-процессуального принуждения (гл. 1разд. 5 УПК Молдовы, гл. 17 УПК Туркменистана и др.).
Укажем далее на формулировки (пункты) ст. 5 УПК РФ, которые, на наш взгляд, в нем вовсе не имеют права на существование, как говорится, по определению. К ним относятся разъяснения «понятий», которые в «настоящем Кодексе» ни разу не употреблены. Это «алиби», «близкие лица» и «следователь-криминалист».
(Заметим попутно, что нам удалось обнаружить законодательный акт, в котором, в отличие от УПК РФ, использован термин «алиби». Это – УПК Туркменистана. В его статью 110 «Обязательность рассмотрения ходатайств» включена часть 4, в которой закреплено: «Алиби, приведенное подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, его адвокатом подлежит проверке дознавателем, следователем, прокурором, судьей, судом в качестве обстоятельства, не позволяющего обоснованно признать виновность в совершении преступления». Хотя оправдано ли разъяснение этого термина в специализированной статье Кодекса – для нас большой вопрос).
Можно только гадать о путях проникновения подобных разъяснений в текст нормативного акта. Мы, например, допускаем, что первоначальный вариант какого-либо законопроекта, скажем, Федерального закона от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (им было проведено организационное перестроение следственных органов в РФ), предусматривал появление нового специфического субъекта уголовно-процессуальной деятельности – следователя-криминалиста. Авторы законопроекта проявили усердие и постарались разъяснить юридической общественности в отдельной норме специфику созданного ими участника. Однако, в ходе последующей работы над законопроектом от упоминания о следователе-криминалисте в Кодексе, видимо, было решено отказаться, но вот исключить соответствующее разъяснение из рассматриваемой нами статьи УПК РФ никто не удосужился. Других логических объяснений этим фактам мы не находим, хотя удовлетворить нас они не могут. Как можно разъяснять в законе, затем комментировать, а далее анализировать в научных произведениях тот правовой феномен, который в действительности не существует? Кто-то же из членов рабочей группы по подготовке законопроекта должен быть осведомлен о содержании всего текста Кодекса!?
В общей теории права немало серьезных наработок, посвященных законотворчеству, его планированию, прогнозированию, а также юридической стратегии, тактике и технологии [5; 6; 7 и многие другие]. Хотелось бы задаться вопросом: знакомы ли эти прогрессивные достижения юридической науки тем, кто создает современное уголовно-процессуальное право?
Легкое недоумение вызывает включение в ст. 5 УПК РФ наименований, терминов и их определений (например, «вердикт», «обвинение», «реабилитация», «свидетельский иммунитет», «уголовное преследование»), место которым не в нормативном акте, а в словарях или учебной литературе. Знание сотрудниками уголовной юстиции юридической фразеологии не ставится под сомнение, но должны ли они черпать эти знания из законов? УПК – не юридическая энциклопедия.
Правомерны здесь и другие вопросы. Почему, например, эти термины не разъясняются в УПК соседних государств? Почему для определения или разъяснения выбраны именно эти термины, а не другие, например, «ходатайство», «экстрадиция», «эксгумация»?
Скептическое отношение у нас складывается и к разъяснению ряда наименований органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовным делам. Возможно ли, допустим, понять, кто конкретно из сотрудников районной (городской) прокуратуры наделен тем или иным полномочием, например, по поддержанию государственного обвинения в суде? Нет, не возможно, поскольку в пунктах 6 («государственный обвинитель») и 31 («прокурор») ст. 5 УПК РФ какие-либо разъяснения о полномочиях прокурора в уголовном процессе отсутствуют. В п. 6 содержится указание лишь на «должностное лицо органа прокуратуры», а в п. 31 – отсылка к «федеральному закону о прокуратуре». Не густо.
Интересные по данному вопросу примеры предоставляет нам новейшее законодательство соседних государств. В ст. 7 УПК Казахстана 2014 г. появились термины «процессуальный прокурор» (п. 35), «следственный судья (п. 47). А вот в ст. 3 УПК Грузии 2009 г. термины, характеризующие государственные органы и должностных лиц, отсутствуют.
Перманентные дополнения законодательства новыми для языка уголовно-процессуального права словами и выражениями также порождают увеличение толкуемых в анализируемых нами статьях терминов. Однако сам факт, что тот или иной термин новый еще не означает, что в этимологическом значении он непонятен и, соответственно, требует специального толкования. Более того, дополнения подобного рода весьма хаотичны. Так, ст. 5 УПК РФ дополнялась, в частности, п. 14.1 – «контроль телефонных и иных переговоров», п. 41.1 – «согласие», п. 61 – «досудебное соглашение о сотрудничестве», однако в большинстве УПК соседних государств, также использующих в своих текстах эти выражения, они не разъясняются. В ст. 7 УПК Казахстана включены термины «правовая помощь», «выдача лица (экстрадиция»)», «запрашивающая и запрашиваемая стороны», «экстрадиционный арест», в то время как в УПК РФ, также содержащем в своей структуре разделы о международно-правовом сотрудничестве, они отсутствуют.
7. Разнобой в рассматриваемом виде законотворчества бесспорен. Чтобы получить более ясное о нем представление, нами был проведен сравнительный анализ наименований и терминов, содержащихся в специализированных статьях УПК Беларуси, Грузии, Казахстана и РФ. Он, в частности, показал, что:
1) из 56 пунктов, включенных в ст. 6 УПК Беларуси и 58 – в ст. 7 УПК Казахстана, совпадение со ст. 5 УПК РФ (которую, как отмечалось, составляют 73 пункта) в обоих случаях имеет место лишь по 24 позициям. По 25 пунктам не совпадают между собой перечни терминов, включенных в статьи 6 УПК Беларуси и 7 УПК Казахстана;
2) в ст. 3 УПК Грузии включено в два раза меньше разъяснений, чем в специализированные статьи УПК Беларуси, Казахстана и РФ (в УПК Грузии их 30). При этом треть из них уникальны – не встречаются ни в одном другом кодексе из числа УПК государств ближнего зарубежья. Это – «обоснованное предположение», «высокая степень вероятности», «вне разумного подозрения», «уважительная причина», «место следствия», «компьютерная система», «компьютерные данные», «поставщик услуг», «данные интернеттрафика». (Заметим также, что лишь 37 терминов разъясняется и в специализированной, но не статье, а главе УПК Литвы – гл. 2);
3) определения одних и тех же наименований и терминов в перечисленных УПК во многих случаях представлены в различной редакции, что предполагает далеко не аутентичное их понимание и, соответственно, потенциальную неоднозначность в правоприменении. Так, в ст. 7 УПК Казахстана термином «жилище» охватываются не только перечисленные в ст. 5 УПК РФ помещения, входящие или не входящие в жилищный фонд, но также и гостиничный номер, каюта судна, купе поезда. УПК Грузии – единственный кодекс, в котором термин «жилище» в специализированную статью не включен, а в его главе XV «Следственные действия» особый режим производства осмотра и обыска в помещении обусловлен жилищем, находящимся в частной собственности.
Результаты компаративистского анализа позволяют сделать два основных вывода: во-первых, об отсутствии критериев, по которым осуществляется отбор терминов для размещения в специализированных статьях национальных УПК, во-вторых, о небезгрешности включенных в них дефиниций.
Обнажаются и другие вопросы. Допустим, всякий ли новый для кодекса термин достоин специального толкования? Не пора ли пересмотреть ряд нормативных предписаний, на протяжении десятилетий кажущихся незыблемыми (например, о продолжительности «ночного» времени)? Каков резон разъяснять в УПК наименования и термины, которые определяются в иных нормативных актах, например, в законодательстве о судоустройстве, в законе об оперативно-розыскной деятельности? Надо ли отягощать УПК разъяснениями, не сообщающими юристам или гражданам никакой принципиально новой или дополнительной информации по сравнению с той, которая может быть сполна почерпнута из соответствующих институтов и норм? (В этом смысле бессодержательны, на наш взгляд, такие из включенных в ст. 5 УПК РФ дефиниций как «избрание меры пресечения», «применение меры пресечения», «присяжный заседатель», «процессуальное действие», «процессуальное решение», «розыскные меры», «согласие» и др.).
(Ряд аналогичных претензий может быть высказан и в отношении специализированных статей УПК государств ближнего зарубежья. Нуждаются ли, например, в разъяснении такие термины, включенные в ст. 6 УПК Молдовы, как «обоснованное подозрение», «явное преступление»? Целесообразно ли в этой же статье одновременно устанавливать возраст несовершеннолетнего лица и совершеннолетнего? Какой резон включать в УПК этого государства две равнозначные дефиниции доказательства – в п. 33 ст. 6 и в ч. 1 ст. 93?).
Целесообразно ли в принципе сохранение специализированной понятийной статьи в будущем российском уголовно-процессуальном законодательстве? Опыт законотворчества отказавшихся от нее государств подсказывает – в ее существовании нет никакой необходимости ни с точки зрения юридической технологии, ни в плане прагматическом – правоприменительном и смысловом.
8. Обратимся далее к дефинитивным нормам, размещенным за пределами ст. 5 УПК РФ. Снабжение ими УПК РФ мы также охарактеризовали бы как тенденцию, но тенденцию положительную. Точнее даже как одну из основных тенденций, поскольку она составляет специфику законодательной регламентации – юридической тактики и техники, особенность конструирования институтов уголовно-процессуального права, тем самым предопределяя форму и содержание составляющих их норм. Как справедливо отмечалось в специальной литературе, их отсутствие лишило бы законодательство ясности, «а процесс его применения сделало бы невозможным или крайне затруднительным» [8, с. 181]. Именно через понятийные определения включены в текст Кодекса институты показаний, вещественных доказательств, большинства участников уголовного процесса и многие другие. В ряде случаев полное дефинитивное представление о том или ином термине, используемом в УПК РФ, может сложиться лишь в результате анализа не одной, а нескольких норм, которые могут быть расположены в разных структурных единицах. Но в целом налицо стремление законодателя создать в УПК РФ понятийную характеристику терминов, которая служит важным инструментом правового регулирования. Возражать против такого употребления норм-определений в УПК РФ не имеет смысла: их существование в структуре уголовно-процессуального кодекса логично.
Характерный пример – гл. 10 УПК РФ «Доказательства в уголовном судопроизводстве». В ней вначале определяются обстоятельства, подлежащие установлению по каждому уголовному делу, после чего вводится норма-дефиниция, в которой содержится прагматичное для нормативного акта определение термина «уголовно-процессуальное доказательство». В нем звучит: доказательство это – любое сведение, обладающее признаками относимости и допустимости. Затем устанавливается закрытый и исчерпывающий перечень источников доказательств. А далее в УПК закрепляются нормы, определяющие условия недопустимости доказательств, формулируются правила, касающиеся использования в доказывании отдельных видов источников доказательств. Структура гл. 10 УПК РФ вполне логична, но …
9. Как мы уже отмечали, языковые средства выражения одной и той же по сути нормы могут быть различными. Для иллюстрации этого положения приведем формулировки, разъясняющие, например, термин «потерпевший в уголовном процессе», абстрагируясь от текста какого-либо реального нормативного акта.
Вариант 1. При наличии доказательств, дающих основание полагать, что лицу преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, оно признается потерпевшим.
Вариант 2. Потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или материальный вред.
Первая из предложенных редакций обладает всеми необходимыми признаками нормы уголовно-процессуального права: в ней закреплено установленное государством процедурное правило, позволяющее отнести ее к числу регулятивных норм; выявляется гипотеза и диспозиция, появляется возможность судить о потенциальном применении процессуальной санкции. (Близкая формулировка использована в ч. 1 ст. 54 УПК Узбекистана).
Вторая – понятийная – редакция сама по себе не обладает рядом основных признаков нормы права. Она не порождает никаких уголовно-процессуальных правоотношений. В ней нет ни гипотезы, ни диспозиции, хотя свою разъяснительную функцию она выполняет.
На наш взгляд, в отечественном законотворчестве имеет смысл отказаться от вызывающих бесконечные дискуссии дефинитивных норм, переориентировав его на формулировку норм регулятивных. Реальные возможности для воплощения в жизнь такого подхода существуют. Допустим, норму, закрепленную ныне в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, можно гипотетически представить примерно в следующей редакции: «Суд, прокурор, следователь и дознаватель устанавливают подлежащие доказыванию обстоятельства на основе любых сведений, полученных в порядке, определенном настоящим Кодексом».
И в заключение. Нельзя быть столь наивным, чтобы в контексте рассмотренных проблем рассчитывать на изменения действующего законодательства. Цель приведенных рассуждений иная – задуматься о целесообразности изменения подхода к решению вопросов, кажущихся в силу привычности очевидными при работе над законодательством будущего. При этом мы полагаем, что:
1. С позиций общей методологии и юридической технологии нормы-дефиниции специализированной статьи УПК РФ порождают головную боль, избавление от которой видится в ее исключении из структуры Кодекса.
2. Та часть норм-дефиниций, которые по соображениям процессуально-правовой прагматики должны получить закрепление в Кодексе, может быть внедрена в ткань соответствующих его институтов.
3. Основная часть понятийных норм, размещенных за пределами специализированной статьи УПК РФ, может быть безболезненно переформулирована в нормы регулятивные.
* В данном случае мы опускаем ссылки на более чем многочисленные работы, содержащие соответствующие инициативы. Специалистам они известны.
** В литературе широко распространено сокращение наименования УПК государств ближнего зарубежья с применением аббревиатуры или без термина «Республика» (там, где он наличествует). Мы воспользовались вторым вариантом сокращения.
Пристатейный библиографический список
1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 1351 с.
2. Победкин А.В. Моральные победы – не считаются // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 209 – 223.
3. Юридический словарь / гл. редакция: С.Н. Братусь, Н.Д. Казанцев, С.Ф. Кечекьян и др. М.: Госюриздат, 1953.– 782 с.
4. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ. Stafprozessordnung (StPO): науч.-практич. коммент. и перевод текста / сост. и пер. П. Головненкова и Н. Спицы; вступит. статья проф. У. Хелльманна. Porsdam: Universitаtsverlag, 2012. – 404 с.
5. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. М.: Статус, 1999. – 712 с.
6. Власенко Н.А. Законодательная технология: теория, опыт, правила. Иркутск: Восточно-Сибирская издательская компания, 2001. – 144 с.
7. Карташов В.Н. Перспективные направления совершенствования законодательной техники, тактики и стратегии в юридических науках и практиках // Юридическая техника: ежегодник. № 9. Н. Новгород, 2015. С. 53 – 61.
10. Бахта А.С., Марфицин П.Г. Уголовно-процессуальные нормы // Уголовный процесс. Проблемные лекции: учебник / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. М.: Юрайт, 2013. С. 146 – 206.
- войдите для комментирования
|
|

