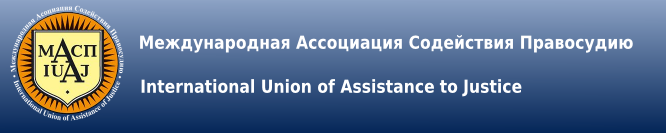Филатьев В.А. Непротиворечивость доказательств как условие постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства
В современном российском уголовном процессе востребованы упрощенные процедуры доказывания обвинения. Вопрос о справедливости осуществления производства с их применением остается сложным и дискуссионным, он актуален как в доктринальном плане, так и в связи со значимостью и распространенностью использования соответствующих процессуальных форм. В этой ситуации научный интерес представляет поиск путей оптимизации особых порядков рассмотрения уголовных дел в русле исходных принципов правосудия.
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить в правовом регулировании особого порядка рассмотрения уголовного дела при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением недостатки, связанные с оценкой его обоснованности судом, и в случае обнаружения определить способы их устранения. Методологическую основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы научного познания, такие как диалектический метод, анализ и синтез, дедукция и индукция, системный подход, сравнительно-правовой, логико-юридический и др.
В результате автором сделан вывод о том, что без надлежащих гарантий судебного контроля законности и обоснованности обвинительного приговора в производстве по уголовным делам в особом порядке не обеспечивается объективная оценка достоверности и достаточности доказательств обвинения и парализуются основные принципиальные механизмы защиты от необоснованного осуждения, в частности презумпция невиновности. Выработан новый критерий, предназначенный для оценки судом обоснованности обвинения при рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, которым может служить непротиворечивость доказательств. В статье утверждается их недостаточность для вынесения приговора при наличии в деле хотя бы одного противоречащего обвинению доказательства. В связи с этой позицией и с учетом ее расхождения с нормативно закрепленными общими правилами оценки доказательств, не имеющими исключений, обосновывается необходимость указания в законе соответствующего основания для отказа в применении особого порядка принятия судебного решения в качестве обязательного условия постановления приговора.
Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства; презумпция невиновности; достоверность и непротиворечивость доказательств; справедливое судебное разбирательство; приговор как акт правосудия.
Филатьев В.А. Непротиворечивость доказательств как условие постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства / Право. Журнал Высшей школы экономики. 2025. Том 18. № 1. С. 140–164. DOI:10.17323/2072-8166.2025.1.140.164
URL: https://law-journal.hse.ru/article/view/26547
Введение. Постановка проблемы
В качестве специальных процессуальных форм, предполагающих особый порядок разрешения уголовного дела, закон предусматривает особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)) и особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). При возражении подсудимого, государственного или частного обвинителя, потерпевшего против использования названных форм либо по собственной инициативе в случае возникновения сомнений в обоснованности обвинения судья выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке (ч. 6 ст. 316); судья постановляет приговор только при условии, если придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу (ч. 7 ст. 316 УПК РФ)[1].
Из сферы контроля вышестоящих судов с точки зрения правильности выявления обстоятельств совершенного деяния такие приговоры исключены (ст. 317 УПК РФ). При этом Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) неоднократно подчеркивал отсутствие нарушения конституционных прав в том, что подсудимому, по ходатайству которого уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, не предоставлено право обжаловать вынесенный в его отношении приговор по мотиву несоответствия содержащихся в нем выводов фактическим обстоятельствам дела[2].
Казалось бы, при такой позиции вопрос допустимости осуществления правосудия в особом порядке рассмотрения дела возникать не должен. Однако в юридической науке взгляды ученых на этот счет различны. Сторонники применения специальных форм считают, что право на справедливое судебное разбирательство не будет нарушено, если отказ от его проведения в общем порядке носит добровольный и осознанный характер и соответствует публичным интересам, а также при условии соблюдения в ходе досудебного производства по делу важнейших прав обвиняемого [Качалова О.В., Качалов В.И., 2019: 197–202]; [Корнакова С.В., Щербаков В.А., 2017: 58–65]. Противники применения вообще не относят особый порядок к формам уголовного процесса и определяют его как деятельность по назначению наказания [Брестер А.А., 2015: 140–146].
Приведенные подходы расходятся в принципиальном вопросе, что может указывать на наличие в законе дефектов, обнаруживающих неопределенность регулирования оценки судом обоснованности обвинения. Предположив, что они имеют место, изучим релевантные правовое регулирование и судебную практику, а в случае обнаружения соответствующих признаков определим, в чем именно заключаются проблемы и каковы способы их разрешения. В ходе исследования смоделируем ситуацию, в которой обвиняемый, не совершавший преступления, заявляет о согласии с обвинением и ходатайствует о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства; формально препятствующих удовлетворению судом этой просьбы оснований не имеется, однако в уголовном деле содержится хотя бы одно доказательство, свидетельствующее об обстоятельствах, существенно отличающихся от инкриминируемых.
Как отмечают В.И. Качалов и О.В. Качалова, «конструкция особого порядка судебного разбирательства предполагает, что суд принимает решение, основываясь преимущественно на доказательственной деятельности органов предварительного расследования, однако при этом проводит ее проверку» [Качалов В.И., Качалова О.В., 2022: 88]. В то же время принято считать, что суд не должен нести ответственность за установление фактических обстоятельств при рассмотрении дел подобной категории, а вся ответственность переносится на стороны, давшие согласие на использование особого порядка судебного разбирательства. В научной литературе высказано мнение о том, что эти приговоры не случайно «заведомо объявляются ущербными» [Дикарев И.С., 2020: 35], о чем свидетельствует их исключение из правил преюдиции. Подразумевается, что суд принимает факты дела в том виде, в каком они установлены органами предварительного расследования, а не устанавливает их самостоятельно [Дорошков В.В., 2010: 23].
Поэтому для рассматриваемого нами случая предположительно единственной действенной процессуальной гарантией от осуждения лица, ошибочно обвиненного в совершении преступления, служит полномочие суда разрешить вопрос обоснованности предъявленного обвинения, реализуемое во взаимосвязи с правом прекратить производство в особом порядке и перейти в общий порядок рассмотрения дела.
1. Проверка обоснованности обвинения
Для начала обсудим, что понимается под «обоснованностью» обвинения, упомянутой в ч. 7 ст. 316 УПК РФ. В каком случае при рассмотрении уголовного дела в особом порядке суд может прийти к выводу о том, что обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу?
Завершая предварительное расследование, следователь, дознаватель признают, что собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления. Принимаемые ими в рамках уголовного дела процессуальные решения требуют обоснования имеющимися доказательствами фактических обстоятельств совершенного преступления, подлежащими судебной проверке и оценке. Поэтому формулируемые органом предварительного расследования выводы относительно фактических обстоятельств уголовного дела, подлежащих доказыванию, в том числе выражающиеся в приводимом в обвинении описании установленных этим органом обстоятельств преступного деяния, имеют предварительный характер до момента их подтверждения или опровержения судом при разрешении уголовного дела.
Согласно п. 1 – 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает следующие вопросы: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении этого преступления. От ответов на данные вопросы зависит, какой приговор – обвинительный или оправдательный – подлежит вынесению судом.
В процессе разрешения уголовного дела суд формулирует выводы об установленных фактах и о нормах права, подлежащих применению. По нашему мнению, особый порядок принятия судебного решения с этими требованиями закона согласуется, поскольку возлагает на суд обязанность определить, обоснованно ли обвинение и подтверждается ли оно собранными доказательствами, что тождественно разрешению вопроса о том, верно ли орган предварительного расследования установил и в обвинении сформулировал фактические обстоятельства преступного деяния. Реализация указанного полномочия напрямую связана с достижением цели правильного установления фактов, для чего законом предусмотрена процедура доказывания (гл. 11 УПК РФ), подразумевающая обязательное проведение – хотя бы и вне судебного следствия – исследования доказательств, т.е. их анализа на предмет установления содержащихся в них сведений. Поэтому к данной деятельности суда подлежат применению и регламентирующие единые правила оценки доказательств положения (ст. 88 УПК РФ). Согласно этим правилам оценка судом доказательств при постановлении приговора в особом порядке предполагает их оценку с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела. Какого-либо специального порядка проведения такой оценки или изъятий из единых правил ее осуществления законом не предусмотрено.
К сущностным свойствам приговора в юридической науке относят его презюмируемую истинность и преюдициальность, а понятие «законная сила» приговора толкуется как качество, приравнивающее силу приговора к силе закона [Строгович М.С., 1970: 423], как выражение в нем требования уголовного закона [Соколов О.В., 2009: 158]. После вступления в законную силу приговор переходит в состояние окончательного судебного решения, становится закрытым для пересмотра с фактической стороны и неотменяемым в ординарных процедурах, поскольку уголовно-правовой конфликт разрешен и уголовный закон применен адекватно установленным фактам.
В общей теории права высказано мнение, согласно которому результаты доказательственной деятельности, выраженные в правоприменительном акте, отражают разный уровень юридической надежности фиксируемых и удостоверяемых ими фактов, что обусловлено прежде всего тем, что доказательственная деятельность различается по своей надежности [Марченко М.Н., 1998: 310]. В качестве универсально пригодной для выяснения событий, имевших место в прошлом, законодателем признается процедура доказывания в общем порядке судебного разбирательства. В нее входят такие обязательные элементы, как судебное следствие, проводимое при непосредственном исследовании в судебном заседании с участием сторон представленных в подтверждение и опровержение обвинения доказательств, последующее проведение судебных прений и заслушивание последнего слова подсудимого, в том числе по вопросам доказанности этого обвинения. Соблюдение этой процедуры придает приговору – правоприменительному акту, которым разрешается уголовное дело, – преюдициальную силу и обеспечивает возникновение связанной с этим презумпции его истинности. Поэтому в системе действующего правового регулирования предполагается, что только вступившим в законную силу приговором, вынесенным в общем порядке, устанавливаются истинные, т.е. соответствующие реальному положению дел фактические обстоятельства совершенного преступного деяния. На отдельные виды приговоров, в частности на вынесенные в особом порядке, презюмируемая истинность и преюдициальность не распространяются.
«В УПК РФ неоднократно встречается словосочетание “постановление приговора без судебного разбирательства”. При разбирательстве таких дел суд отстранен от непосредственного исследования доказательств, на которых он будет основывать приговор. Один из важнейших принципов установления истины – непосредственности – исключен» [Свиридов М.К., 2018: 91]. Судебные следствие и прения по вопросу доказанности фактических обстоятельств преступного деяния не проводятся, равно как исключено оспаривание обвинения подсудимым в последнем слове. Совокупность перечисленных условий, составляющих специфику доказывания в особом порядке судебного разбирательства, исключает самостоятельное установление судом при разрешении уголовного дела фактических обстоятельств преступного деяния.
По результатам изучения свойств приговора М.Т. Аширбекова приходит к выводу о необходимости «введения в правовую ткань уголовного судопроизводства нового вида правовой презумпции как предположения, основанного на вероятности», которой может быть презумпция юридической надежности признания обвиняемым своей вины и связанных с ним результатов упрощенного или сокращенного доказывания [Аширбекова М.Т., 2018: 21]. В практическом анализе этой позиции важно учитывать, что УПК РФ, называя судебное решение, принимаемое при завершении проведенного в особом порядке судебного разбирательства, приговором (ст. 314 – 317), одновременно исключает возможность придания данному приговору преюдициального значения (ст. 90), а значит, и не признает наличия у него присущего приговорам фундаментального свойства их истинности. Как нам представляется, при таком положении куда большего внимания, нежели необходимость внедрения в уголовный процесс презумпции юридической надежности признания обвиняемым своей вины, заслуживает вытекающий из анализа принципов и норм права вывод об использовании законодателем неопровержимой в особом порядке производства по делу презумпции достоверности относящихся к обвинению доказательств.
В силу принципа презумпции невиновности, закрепленного в ст. 49 Конституции РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном законом, толкуются в его пользу. До тех пор, пока его невиновность не опровергнута в должной процессуальной форме, обвиняемый продолжает считаться невиновным до вступления обвинительного приговора в законную силу, причем вне зависимости от собственного мнения в вопросе виновности. Данный принцип, предполагающий возможность признания лица виновным в случае доказанности его виновности в предусмотренном законом порядке, не может считаться нарушенным[3], если этот порядок не только был соблюден, но и сам по себе обеспечивает достижение целей правосудия.
В России права человека и гражданина считаются высшей ценностью. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать эти права, что предполагает разрешение споров посредством справедливого правосудия на основе правильного установления фактов и при соблюдении прав участников процесса, которые могут ограничиваться только для защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав других лиц и для обеспечения безопасности государства. Поскольку неправосудный обвинительный приговор не может считаться справедливым[4], устанавливаемый порядок уголовного судопроизводства должен предупреждать ошибочное осуждение.
Уголовные правоотношения имеют свои особенности, предопределяющие специфику производства по уголовным делам, состоящую в том, что выводы относительно виновности подсудимого и обстоятельств, влияющих на назначение наказания, должны быть основаны на применении надежных процедур, обеспечивающих установление фактов реальной действительности как познанных настолько, насколько это возможно с учетом общепризнанных достижений научной мысли, и потому – позволяющих считать полученное представление об этих фактах истинным. Поэтому суду надлежит в своих суждениях исходить только из тех данных, которые после их проверки с принятием при ее проведении всех разумно возможных мер посредством указанных процедур не вызывают сомнений в своей подлинности. Когда эти сомнения появляются, они должны быть устранены с соблюдением требований закона.
Отсюда следует, что упрощение процедур доказывания в уголовном процессе возможно, только если это не влияет на решение вопросов о виновности подсудимого и его наказании.
Отсутствуют основания для предположения о том, что лицо, которое было осуждено в особом порядке судебного разбирательства с соблюдением установленных в законе необходимых условий постановления приговора, могло быть при обычном развитии событий признано невиновным в общем порядке рассмотрения уголовного дела, когда все относящиеся к обвинению доказательства его подтверждают. Утверждать подобное, однако, нельзя, если в деле имеются доказательства, расходящиеся с предъявленным лицу обвинением. Давать суду возможность устранять сомнения, которые объективно возникают уже в связи с самим фактом наличия противоречий между доказательствами и обвинением, без проведения направленной на разрешение таковых проверки доказательств с использованием надежной процедуры доказывания, во всяком случае подразумевающей необходимость их непосредственного исследования в судебном заседании, было бы неразумно, объективно ничем не оправдано и, значит, недопустимо.
Гарантии справедливого правосудия (как lex generalis) не могут быть снижены, а потому суд при использовании упрощенных процессуальных форм (как lex specialis) может вынести обвинительный приговор лишь при отсутствии доказательств и фактов, противоречащих обвинению. Следовательно, на особый порядок принятия судебного решения распространяется основанное на презумпции «неопровержимой достоверности» имеющее принципиальный характер требование, которое закрепляет непротиворечивость относящихся к обвинению доказательств в качестве conditio sine qua non для признания его обоснованным. Отчасти формализуя процедуру доказывания, это требование не позволяет возникать сомнениям в виновности и, следовательно, исключает случаи их разрешения судом в особом порядке. Иначе нарушался бы принцип презумпции невиновности, определяющий возможность ее опровержения только при соблюдении установленных в законе правил и необходимость истолкования неустранимых сомнений в виновности лица в его пользу. Расхождения в содержании доказательств должны обнаруживаться судом до проведения оценки их достоверности, например уже при изучении поступившего к нему уголовного дела, и являются основанием для назначения его рассмотрения в общем порядке.
На наш взгляд, к исключениям из указанного правила следует относить случаи рассмотрения судами уголовных дел, при расследовании которых подсудимый оспаривал обвинение или отказывался давать показания, в то время как все другие относящиеся к обвинению доказательства его подтверждают. В подобных ситуациях при подтверждении подсудимым своей позиции в судебном заседании относительно согласия с обвинением рассмотрение дела может быть продолжено в особом порядке, поскольку предоставленные подсудимому гарантии реализуются так же, по сути, как и в обычном процессе.
Такое понимание правил доказывания согласуется с соображениями о необходимости экономии процессуальных средств, которыми руководствовался законодатель при определении процессуальных форм, предусматривающих упрощение порядка доказывания обвинения в отношении подсудимых применительно к тем случаям, когда их виновность в совершении преступного деяния очевидна.
При изучении судебной практики мы не обнаружили ни одного случая оправдания или принятия решения о назначении рассмотрения дела в общем порядке, обусловленного необоснованностью обвинения. Это объясняется тем, что сомнения в обоснованности обвинения – в силу абз. 3 п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 29 ноября 2016 г. № 55 – не допускают самой возможности постановления приговора. Вероятность существования случаев прекращения особого порядка рассмотрения дела по указанному основанию нами не исключается. Но их обнаружение оказалось невозможным, поскольку принятие соответствующих решений в форме «протокольных» постановлений не предполагает изложение какого-либо обоснования, кроме ссылки на ч. 6 ст. 316 УПК РФ, определяющую собственную инициативу в качестве необходимого и достаточного условия реализации судом предоставленного ему полномочия.
При этом практика пересмотра приговоров, вынесенных в особом порядке, судами апелляционной и кассационной инстанций свидетельствует, что неустановление судом обоснованности обвинения является одной из наиболее частых причин их отмены. Вместе с тем, поскольку в качестве основания к тому сам по себе факт наличия в деле противоречащих обвинению доказательств не использовался, по нашему мнению, нельзя представить, что во всех разрешенных судами в особом порядке уголовных делах, приговоры по которым не были отменены, обвинение было безупречным с точки зрения обоснованности.
В данном отношении представляет интерес дело, которое было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения в отношении М[5]. В нем имелись копии вступивших в законную силу решений арбитражных судов о признании недействительными и не подлежащими применению решений налогового органа, отказавшего в возмещении Обществу как налогоплательщику, в интересах которого действовал М., налога на добавленную стоимость. Как усматривается из указанных судебных решений, возражения налогового органа, ссылавшегося на фиктивность сделок, совершение которых давало Обществу основания для предъявления требований о возмещении налога, были отвергнуты. При этом видно, что судами тщательно проверялась достоверность доказательств, представленных Обществом в подтверждение своих доводов.
Между тем по результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при вынесении приговора суд согласился с обоснованностью предъявленного М. обвинения в части утверждений органа следствия о фиктивности данных сделок. Проигнорировав, что во вступивших в законную силу решениях, на которые имелась ссылка в том же обвинении, принятых арбитражными судами, при рассмотрении гражданских дел по существу исследовавшими данный аспект и признавшими право налогоплательщика на возмещение налога, суд сделал противоположные выводы. Из этого вытекает, что наличие на момент постановления приговора опровергающих обвинение доказательств, в частности вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных в рамках арбитражного судопроизводства, не воспрепятствовало суду прийти к выводу о том, что обвинение обоснованно и подтверждается собранными доказательствами.
С таким подходом согласились суды вышестоящих инстанций, в том числе ВС РФ, которые в своих решениях, констатировав соблюдение судом первой инстанции требования закона о постановлении приговора при условии, что обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, сослались на невозможность проверки содержащихся в жалобах осужденного доводов о наличии в уголовном деле доказательств, опровергающих обвинение, – и это даже несмотря на то, что формулировка обвинения сама по себе указывала на наличие таких доказательств.
Тем не менее прийти к выводу о том, что положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ по смыслу, который придается им при индивидуальном регулировании правоотношений, допускают возможность вынесения судом в особом порядке принятия судебного решения обвинительного приговора при несоблюдении требования непротиворечивости доказательств, нельзя ввиду отсутствия в приговоре раздела, отражающего исследование и оценку доказательств, чем только и подтверждается существование той или иной практики. Едва ли случай с М. в достаточной мере свидетельствует о противоположном, ведь со стороны он воспринимается как частный. Заявления об ином позволяли бы упрекнуть нас в увлечении казуистикой, а потому мы дополнительно провели анонимное анкетирование и интервьюирование судей. Парадоксально, но эти методы научного исследования показали, что обнаружение судом при изучении материалов уголовного дела доказательства, содержание которого расходится с формулировкой обвинения в части описания обстоятельств преступного деяния, действительно не препятствует разрешению этого дела в особом порядке, хотя в нем имеются доказательства, не только подтверждающие обвинение.
Возможность применения обсуждаемых нами законоположений указанным образом обусловлена их буквальным содержанием, в котором нет ссылок на то, что наличие противоречий в собранных по уголовному делу доказательствах в относящейся к обвинению части исключает возможность постановления обвинительного приговора и что само это обстоятельство порождает не устранимые в особом порядке принятия судебного решения сомнения в виновности подсудимого, то есть является безусловным и не зависит от его оценки судом. При неосвещенности данного вопроса в правовой доктрине потребность в самостоятельном истолковании взаимосвязанных нормативных и принципиальных правовых положений, позволяющем на их основе сделать вывод о наличии такого запрета и действии требования непротиворечивости доказательств, не может не вызывать затруднений у правоприменителя. Особенно с учетом того, что в решениях КС РФ и ВС РФ этот вопрос обходится стороной.
Сформулированные Пленумом ВС РФ в постановлениях от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» и от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» разъяснения связывают возможность принятия решения о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке с возникновением у суда сомнений в обоснованности обвинения. Но непонятно, о каких именно сомнениях как результатах познавательной деятельности здесь идет речь – о тех, которые не могли не появиться даже при поверхностном, «на первый взгляд», изучении дела, или о тех, которые, возникнув первоначально, сохранятся при разрешении дела – после проведения анализа и оценки всех собранных доказательств в их совокупности.
Элементы закрепленных прямым способом презумпций фиксируются в тексте правового акта, поэтому их обнаружение не представляет труда. Когда презюмируемое положение непосредственно в нормах права отсутствует, но его можно вывести из них путем умозаключений, налицо косвенное закрепление презумпции. В отношении таких презумпций в юридической науке неоднократно высказывались негативные суждения: «нельзя выводить презумпции исходя из смысла законодательства, так как это не вносит ясности в их применение на практике» [Веденеев Е.Ю., 1998: 43], «единственно оправданным является прямой способ закрепления правовой презумпции» [Цуканов Н.Н., 2001: 509] и т.п. Поэтому можно утверждать, что одной из причин сложившейся правоприменительной практики служит буквальное содержание ч. 7 ст. 316 УПК РФ, в которой не закреплены правила, вытекающие из необходимости соблюдения требования непротиворечивости относящихся к обвинению доказательств как условия признания его обоснованным.
2. Соотношение с гарантиями справедливого правосудия
Законоположения, позволяющие выносить приговор без исследования доказательств в судебном заседании, должны применяться в системном единстве с другими нормами и принципами права, регулирующими порядок уголовного судопроизводства. Практически в отношении каждого подсудимого, избравшего особый порядок принятия судебного решения, судами принимаются решения об осуждении либо о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, что свидетельствует об однозначности нормативного регулирования. В связи с этим имеются основания выдвинуть предположение о том, что рассматриваемая проблема обусловлена наряду с выявленным пробелом наличием в законе таких предписаний, которые прямо приводят к лишению подсудимого гарантий справедливого правосудия, обеспечивающих надежность процедуры доказывания обвинения, эффективность средств правовой защиты как от ошибочного осуждения, так и предназначенных для восстановления нарушенных прав.
Главным «чаянием» абсолютного большинства граждан России является запрос на справедливость [Азаров В.А., 2022: 7]. Поэтому имеет смысл при изучении вопроса о том, обеспечивает ли особый порядок принятия судебного решения возможность эффективной реализации права на справедливое судебное разбирательство, затронуть – в той мере, в какой это отвечает целям исследования, – вопрос о соответствии такого порядка требованиям справедливости.
Не секрет, что среди некоторых практических и научных работников бытует мнение, согласно которому лица, избравшие особый порядок рассмотрения судом их уголовных дел, не получают для себя ровным счетом никаких выгод, поскольку по данным статистики[6]этот выбор не влияет на меру наказания. Единственная «выгода» подсудимого заключается в том, что он освобождается от выплаты процессуальных издержек, а судебное разбирательство по его делу занимает одно – два заседания, в связи с чем сокращается срок пребывания в следственном изоляторе до момента этапирования в место отбывания наказания. Однако у выразившего свое согласие с предъявленным обвинением подсудимого, который не использовал особый порядок принятия судебного решения, серьезные риски опасаться затягивания разбирательства в настоящее время отсутствуют, равно как нет следственных изоляторов, условия нахождения в которых ранее признавались пыточными. Вопрос процессуальных издержек актуален крайне редко. Приведенные суждения, если признавать их верными, позволяли бы вести речь о следующем.
Пользу от избрания обвиняемым упрощенной формы судопроизводства получает только суд, который освобождается от соблюдения формальностей, понимаемых в качестве излишних, так как спор о виновности между сторонами защиты и обвинения отсутствует. Тогда утверждать установление справедливого баланса между интересами обвиняемых и необходимостью гарантировать эффективность системы уголовного правосудия не приходится. Одним из центральных компонентов содержания понятия «справедливость» и форм ее реализации наряду с принципом состязательности является конституционный принцип равенства граждан перед законом и судом. Установление различий в правах и обязанностях возможно лишь в том случае, если они объективно оправданны, обоснованны и направлены на достижение конституционно значимых целей. Необходимым условием дифференциации при этом признается соразмерность применяемых правовых средств преследуемым целям.
Законодатель распределил граждан, принадлежащих к одной категории лиц – подсудимых, согласившихся с предъявленным обвинением и имеющих равные права на справедливое осуждение или оправдание за то, что имело место в действительности, – на заявивших об использовании особого порядка принятия судебного решения и не заявивших. Это сделано с тем, чтобы использовать в их отношении принципиально различные подходы в двух вопросах: какую процедуру доказывания применять по делу (обладающую надежностью или нет), а также предоставлять ли им право на обжалование приговора по мотиву несоответствия содержащихся в приговоре выводов фактическим обстоятельствам дела.
Однако такая дифференциация не находила бы объективного и разумного оправдания – она не может быть единственно обусловлена целью оптимизации деятельности судебных органов, поскольку иное предполагает возможность признания избравших особый порядок граждан виновными в совершении преступления на основе ненадежных процедур доказывания без соблюдения требований соразмерности, т.е. произвольно. Это не только свидетельствовало бы о несправедливости, но и означало бы нарушение принципов юридического равенства и правовой определенности, которые по своему существу относятся к основам конституционного правопорядка.
Особый порядок принятия судебного решения определяет невозможность назначения наказания, превышающего две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, а также упрощение связанных с доказыванием процедур производства в суде первой инстанции и ограничение права на обжалование приговора. Однако, исходя из смысла правовой позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в ряде его решений[7], с учетом самостоятельного заявления лицом соответствующего ходатайства, когда это сделано им осознанно и добровольно, такой порядок рассмотрения дела не нарушает его конституционных прав. Следуя этой логике, не имеет правового значения, приобретет ли лицо для себя реальную выгоду от использования данной процессуальной формы, поскольку установленная в нормах дифференциация оправдывается самим фактом назначения ему наказания с соблюдением специального правила, исключающего возможность наступления более неблагоприятных для него последствий. Опровержение презумпции конституционности закона в связи с несоблюдением при его принятии требования о недопустимости введения не имеющих объективного и разумного оправдания различий в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, предполагает наличие данных, подтверждающих возникновение нарушающей принципы и нормы права несправедливости.
Иной подход подразумевал бы возможность опровержения этой презумпции на основе учета собственных представлений о справедливости, которые не относятся к элементам системы права и являются по своей сути неправом, а именно, личного мнения о достаточности или недостаточности преференций, предоставляемых избравшему особый порядок обвиняемому в обмен на ограничение его прав, – что недопустимо, поскольку установление их объема относится к исключительной дискреции законодателя.
Поэтому, учитывая изначально смоделированную для целей исследования ситуацию, при которой в уголовном деле есть хотя бы одно опровергающее обвинение доказательство, в дальнейшем сосредоточимся на анализе системы гарантий, обеспечивающих завершение судебного разбирательства, осуществляемого в особом порядке, посредством правосудия, с тем чтобы оно отвечало требованиям справедливости.
По мнению О.В. Качаловой, готовясь рассмотреть уголовное дело в сокращенном порядке, «судья должен убедиться в достаточности доказательств, подтверждающих виновность обвиняемого, необоснованность обвинения исключает возможность рассмотрения дела в особом порядке», а «решая принципиальный вопрос о возможности рассмотрения дела в особом порядке, судья фактически предрешает вопрос о возможности вынесения в отношении лица обвинительного приговора» [Качалова О.В., 2016: 159–160]. Выявление в законе такого смысла подразумевает допустимость разрешения вопроса о достаточности для рассмотрения дела подтверждающих обвинение доказательств на предшествующих постановлению приговора этапах судебного производства в суде первой инстанции. Это не противоречит разъяснениям, изложенным в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60, согласно которым обоснованность обвинения и его подтверждение собранными по делу доказательствами отнесены к необходимым условиям, определяющим возможность принятия судебного решения по ходатайству обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Проверив конституционность положений ст. 232 УПК РСФСР, КС РФ в Постановлении от 4 марта 2003 г. № 2-П отметил, что, инициируя продолжение следственной деятельности по обоснованию обвинения в случае невосполнимой в судебном заседании неполноты расследования, суды, по сути, исходили из того, что необходимые и достаточные доказательства, непосредственно касающиеся существа обвинения, отсутствуют. Принятие судом по собственной инициативе решения о возвращении дела для дополнительного расследования в таких случаях фактически приводит к осуществлению судом не свойственной ему обвинительной функции. При этом ранее КС РФ своим Постановлением от 20 апреля 1999 г. № 7-П признал положения п. 1 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они возлагали на суд обязанность по собственной инициативе возвращать уголовное дело прокурору в случае невосполнимой в судебном заседании неполноты расследования.
Кроме того, КС РФ неоднократно разъяснял, что суд не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела и подлежать разрешению в приговоре[8]. Если бы суд разрешал в предварительном порядке вопрос об обоснованности выдвинутого лицу обвинения и о достаточности доказательств, представленных стороной обвинения, то он вынужден был бы предрешить и вопрос о его виновности. Это не могло бы не оказать отрицательного воздействия на независимость и беспристрастность суда при вынесении им приговора. Подтверждая обоснованность предъявленного обвинения, он фактически подтверждал бы и виновность лица в совершении конкретного преступления[9]. Поэтому выяснение до постановления приговора вопроса о том, собраны ли доказательства, достаточные для рассмотрения этого дела по существу, не просто лишилось смысла, а стало невозможным ввиду воздействия на регулирование правоотношений соответствующих правовых позиций КС РФ.
Закрепляя принцип состязательности сторон, закон не наделяет суд полномочием решать при назначении судебного заседания вопрос о достаточности для разрешения дела собранных доказательств (ст. 228 и 231 УПК РФ). Неустранимая в судебном заседании неполнота расследования не отнесена к обстоятельствам, влекущим возвращение уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ). Вопросы о том, доказано ли, что имело место преступное деяние и что это деяние совершил подсудимый, а также вопрос о его виновности, в силу ст. 299 УПК РФ предписывается решать при постановлении приговора. Исключения из этого правила не установлены. Поэтому реализовать закрепленное в ч. 7 ст. 316 УПК РФ полномочие по проверке обоснованности предъявленного обвинения и его подтвержденности собранными доказательствами, предполагающей необходимость в ходе ее осуществления решить вопрос о достаточности собранных доказательств, суд вправе только после удаления в совещательную комнату для постановления приговора. Следовательно, до этого момента в принципе невозможно прекращение судом особого порядка судебного разбирательства в связи с возникновением у суда сомнений в виновности обвиняемого, обусловленных недостаточностью собранных по уголовному делу доказательств.
Положения, позволяющие дифференцированно подходить к определению степени достоверности доказательств, равно как и стандарты доказанности фактических обстоятельств, которые бы позволяли применительно к процедуре доказывания оперировать вероятностными категориями, нормативно не закреплены. Анализ правовых позиций КС РФ и ВС РФ показывает отсутствие в правовом регулировании разработанной системы критериев, предназначенных для выявления и учета при принятии процессуальных решений, требующих своего фактического обоснования входящими в предмет доказывания по уголовному делу обстоятельствами, степени достоверности доказательств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии этих обстоятельств с вероятностью, или степени вероятности их наличия либо отсутствия. Отсюда следует, что в российском уголовном процессе оценка доказательству с точки зрения достоверности может быть дана судом исключительно при разрешении уголовного дела. С этим согласуется мнение П.А. Лупинской о том, что «только оценка доказательств в их совокупности может привести к правильному выводу о достоверности или недостоверности конкретного доказательства» [Лупинская П.А., 2002: 8].
Суд вправе по собственной инициативе прекратить особый порядок рассмотрения уголовного дела и перейти в общий. Но использовать это право на практике суд может лишь при наличии к тому оснований, предусмотренных законом, поскольку иначе принимаемое им решение носило бы откровенно произвольный характер. В то же время противоречивость относящихся к обвинению доказательств не отнесена к обстоятельствам, образующим соответствующее основание. Поэтому нормативное закрепление названного полномочия не служит гарантией вынесения судом правосудного приговора.
Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое доказательство, имеющееся в уголовном деле, должно оцениваться по нескольким критериям: относимости, допустимости, достоверности. Все доказательства в совокупности должны быть достаточными для решения дела. При этом суд обязан оценивать доказательства самостоятельно и независимо, основываясь на законе и совести, не придавая заранее установленной силы каким-либо из них. Однако данные положения, во взаимосвязи применяемые судом, разрешающим дело в особом порядке судебного разбирательства, противоречат необходимости соблюдения им требования непротиворечивости доказательств, относящихся к обвинению. Когда такие доказательства имеются, на суд, выносящий приговор, по сути, возлагается обязанность нарушить установленный этим требованием запрет на проведение оценки их достоверности, в результате чего при осуждении лица принцип презумпции невиновности оказывается нарушенным. Поэтому подобное регулирование, устанавливающее необходимость использования судом ненадежной процедуры доказывания, как раз и лишает подсудимого в указанных случаях гарантий справедливого правосудия, не обеспечивая ему действенной защиты от судебной ошибки.
Возможно ли восстановить нарушенные права осужденного в других стадиях процесса?
Закон не препятствует обжалованию законности приговора по доводам о существенном нарушении уголовно-процессуального закона, которое выразилось в нарушении требования непротиворечивости доказательств, относящихся к обвинению. Между тем, как разъяснено в п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел», суд апелляционной инстанции не вправе исследовать доказательства, подтверждающие либо опровергающие обвинение, поскольку приговор, постановленный без проведения судебного разбирательства в общем порядке, не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельства дела. Установление запрета на проведение исследования таких доказательств, сформулированного в категорической форме, на практике влечет ограничение права на судебную защиту, поскольку исключает проверку доводов о несоблюдении указанного нами требования.
Таким образом, возможность обжалования приговора в вышестоящий суд (несмотря на имеющуюся практику отмен вынесенных в особом порядке приговоров судами апелляционной и кассационной инстанций) в рассматриваемом нами случае нельзя относить к эффективным средствам правовой защиты.
Заключение
Текстуальная незакрепленность в законе иного, помимо общего, порядка оценки доказательств, собранных по уголовному делу, обнаруживает в нем конституционно значимый пробел, порождающий неопределенность в вопросе о том, является ли при рассмотрении уголовного дела в особом порядке отсутствие противоречащих обвинению доказательств необходимым условием признания его обоснованным. Эта неопределенность, однако, нивелируется буквальным содержанием положений ч. 6 и 7 ст. 316 УПК РФ, которые в системе нормативного регулирования позволяют суду, рассматривающему уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения, устанавливать виновность подсудимого по результатам оценки достоверности таких противоречащих обвинению доказательств, которые не были проверены в судебном заседании с участием сторон.
Такое правоприменение в условиях отсутствия норм, прямо устанавливающих право суда придавать факту наличия указанных доказательств значение обстоятельства, дающего основание прекратить особый порядок рассмотрения уголовного дела, предопределено, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ тот же суд уполномочен давать оценку всем доказательствам при постановлении приговора, в частности с точки зрения достоверности и, значит, в том числе – противоречащим обвинению. В конечном итоге это приводит к разрешению уголовного дела посредством использования упрощенной, без проверки в судебном заседании с участием сторон расходящихся с обвинением доказательств, процедуры доказывания, чем нарушаются гарантии справедливого правосудия, обеспечивающие защиту от судебной ошибки и эффективное восстановление нарушенных прав.
Иными словами, в правовом регулировании особого порядка судебного разбирательства имеются предпосылки к тому, чтобы он применялся с нарушением принципов уголовной ответственности и назначения наказания в качестве аналога института сделок о признании вины, в результате приводил к снижению качественного уровня как досудебного, так и судебного производства, подвергая права и свободы граждан риску их нарушения.
Вполне вероятно, что в будущем текущий период будет вспоминаться подобно временам, когда конфликты разрешались по принципу ордалии. На движение в этом направлении указывают исключение в 2015 году приговоров, постановленных в особом порядке принятия судебного решения, из предусмотренного ст. 90 УПК РФ правила преюдиции, а также изменения, внесенные в ст. 314 УПК РФ в 2020 году, согласно которым из числа дел, рассмотрение которых возможно в особом порядке, были изъяты дела о тяжких преступлениях. Исходя из позиции группы депутатов Государственной Думы РФ, инициировавших принятие соответствующих изменений в первом случае, в указанной процессуальной форме приговор по делу выносился без исследования доказательств, а вывод суда о виновности подсудимого основывался только на его собственном признании[10].
По мнению автора второго законопроекта – Верховного Суда РФ – дела о преступлениях указанной категории ввиду их повышенной общественной опасности, как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в средствах массовой информации, что требует установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия. Обеспечить такие гарантии можно только при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства в условиях действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном заседании[11]. Если перечисленные поправки отражают общую тенденцию, тогда разумно ожидать появления субъекта, наделенного правом законодательной инициативы, пониманию справедливости которого будет соответствовать высокая и равная для всех степень процессуальных гарантий при рассмотрении дел о любом преступлении. Совпадение такой позиции с позицией законодателя приведет к ликвидации института особого порядка принятия судебного решения.
Результаты проведенного исследования не позволяют утверждать, что при конструировании своих предписаний законодатель подразумевал возможность осуществления судом произвольного правоприменения в особом порядке. Скорее всего, он ошибочно исходил из исключаемости ситуаций, подобных рассматриваемой нами, самим судом. Поэтому выявленный дефект во всяком случае подлежит устранению посредством нормативного закрепления требования отсутствия в уголовном деле, рассматриваемом в особом порядке принятия судебного решения, противоречащих обвинению доказательств в качестве обязательного условия признания этого обвинения обоснованным, что стало бы дополнительной гарантией, обеспечивающей завершение судебного разбирательства постановлением правосудного приговора.
С нашей точки зрения, ст. 316 УПК РФ необходимо дополнить ч. 7.1 следующего содержания: «7.1. Если по уголовному делу собраны доказательства, противоречащие обвинению, судья вправе признать его обоснованным только при условии, что вопрос о необходимости их исследования в общем порядке ставился на обсуждение сторон и по нему принято мотивированное решение продолжить рассмотрение дела в особом порядке.». При таком регулировании само наличие подобных доказательств будет включено в число обстоятельств, влекущих – в качестве общего правила – появление у суда обязанности прекратить особый и перейти в общий порядок судебного разбирательства. Вопросы, способные возникать на практике в связи с наличием у суда возможности в порядке исключения из этого правила поступать в указанной ситуации по-другому, могут быть урегулированы Пленумом ВС РФ в его официальных разъяснениях, в частности путем формулирования критериев, предназначенных для отнесения отдельных доказательств к очевидно ошибочным по своему содержанию и, следовательно, несущественным.
Список источников:
1. Азаров В.А. Справедливость как первооснова равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе России // Вестник Томского государственного университета. Право. 2022. № 43. С. 5–20. DOI: 10.17223/22253513/43/1.
2. Аширбекова М.Т. О двух истинах в уголовном процессе // Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 20–22. DOI: 10.17223/23088451/11/4.
3. Аширбекова М.Т., Зайцева Е.А. О сущностных свойствах приговора // Вестник Томского государственного университета. Право. 2021. № 39. С. 21–28. DOI: 10.17223/22253513/40/3.
4. Брестер А.А. Об ошибочном отнесении особого порядка принятия судебного решения к уголовно-процессуальной деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 12. С. 140–146. DOI: 10.17803/1994-1471.2015.61.12.140-146.
5. Веденеев Е.Ю. Роль презумпций в гражданском праве, арбитражном и гражданском судопроизводстве // Государство и право. 1998. № 2. С. 43–49.
6. Вилкова Т.Ю. Принцип презумпции невиновности: история, современность, перспективы : Монография. М. : Издательство Юрайт, 2018. 173 с.
7. Дикарев И.С. О роли суда в доказывании по уголовным делам, рассматриваемым в порядке главы 40 УПК Российской Федерации // Вестник военного права. 2020. № 2. С. 34–38.
8. Дорошков В.В. Особый порядок судебного разбирательства // Уголовное судопроизводство. 2010. № 3. С. 23–28.
9. Качалов В.И., Качалова О.В. Особенности доказывания при рассмотрении уголовного дела в особом порядке // Российское правосудие. 2022. № 8. С. 83–89. DOI: 10.37399/issn2072-909X.2022.8.83-89.
10. Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе : дис. ... д.ю.н. М., 2016. 482 с.
11. Качалова О.В., Качалов В.И. Право на справедливое судебное разбирательство и особый порядок судебного разбирательства: есть ли коллизия? // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 445. С. 197–202. DOI: 10.17223/15617793/445/30.
12. Корнакова С.В., Щербаков В.А. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: гарантии справедливости постановления приговора // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 4 (18). С. 58–65.
13. Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 5–8.
14. Марченко М.Н. (ред.) Общая теория государства и права : акад. курс : в 2 т. М. : Зерцало, 1998. Т. 2. 416 с.
15. Свиридов М.К. Судебная власть, ее проявления в уголовном процессе // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 27. С. 86–93. DOI: 10.17223/22253513/27/9.
16. Соколов О.В. Понятие оправдательного приговора как акта правосудия и особенности вступления его в законную силу // Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 1. С. 157–159.
17. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М. : Наука, 1970. 516 с.
18. Цуканов Н.Н. О критериях правовой презумпции // Законотворческая техника в современной России: состояние, проблемы, совершенствование: сб. статей : в 2 т. / под ред. В.М. Баранова. Т. 2. Н. Новгород : Нижегородское книжное издательство, 2001. С. 502–510.
[1] Пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре».
[2] Определение Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 820-О-О и др. Available at: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16889.pdf (дата обращения: 10.11.2023)
[3] К такому мнению в юридической науке приходят многие авторы. См., напр.: [Вилкова Т.Ю., 2018: 98].
[4] О недопустимости ошибочного осуждения Конституционным Судом РФ разъяснено, в частности, в Постановлении от 2 февраля 1996 г. № 4-П. Available at: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision19696.pdf (дата обращения: 10.11.2023)
[5] Приговор Магаданского городского суда Магаданской области от 29 мая 2019 г. по делу № 1-275/2019, постановление судьи Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 24 мая 2021 г. по делу № 7у-1998/2021, постановления судей Верховного Суда РФ от 10 июня 2021 г. и 27 декабря 2022 г., письма заместителя Председателя Верховного Суда РФ от 4 октября 2021 г. и от 27 апреля 2023 г. по делу № 93-УКС21-22-К9. Available at: https://magadansky--mag.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=39558026&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 10.11.2023)
[6] Данный вопрос изучался Институтом проблем правоприменения. См.: Титаев К.Д., Поздняков М.Л. Порядок особый – приговор обычный: практика применения особого порядка судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) в российских судах. Available at: URL: https://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/pm_gl_40_UPK_fin.pdf (дата обращения: 10.11.2023)
[7] Определение Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 820-О-О и др. Available at: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16889.pdf (дата обращения: 10.11.2023)
[8] Определение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2006 г. № 79-О. Available at: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision15101.pdf (дата обращения: 10.11.2023)
[9] Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П, определение от 2 июля 2009 г. № 1009-О-О и др. Available at: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30375.pdf, http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision19231.pdf(дата обращения: 10.11.2023)
[10] См.: абз. 1 пояснительной записки к проекту № 490833-6 федерального закона «О внесении изменений в статью 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», впоследствии принятого Государственной Думой (Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 191-ФЗ).
- войдите для комментирования