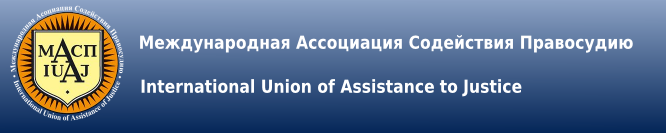Зинченко И.А. Регламентация показаний с чужих слов в уголовно-процессуальном законодательстве РФ и государств ближнего зарубежья
Опубликовано zinchenko в Втр, 08/04/2025 - 14:27
Зинченко Игорь Анатольевич - кандидат юридических наук, доцент (г. Калининград)
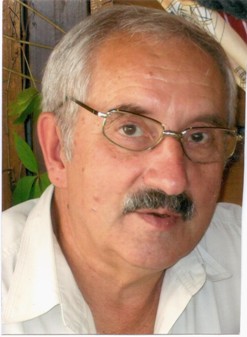 В статье предпринят сравнительно-правовой анализ норм, регламентирующих показания «с чужих слов» в уголовно-процессуальном законодательстве постсоветских государств. Автор приходят к выводу о том, что устанавливаемые данными нормами правила укладываются в содержащиеся в российском законодательстве правила доказывания и, вопреки представленным в специальной литературе инициативам, не нуждаются в корректировке.
В статье предпринят сравнительно-правовой анализ норм, регламентирующих показания «с чужих слов» в уголовно-процессуальном законодательстве постсоветских государств. Автор приходят к выводу о том, что устанавливаемые данными нормами правила укладываются в содержащиеся в российском законодательстве правила доказывания и, вопреки представленным в специальной литературе инициативам, не нуждаются в корректировке.
Зинченко И.А. Регламентация показаний с чужих слов в уголовно-процессуальном законодательстве РФ и государств ближнего зарубежья
В материале использованы фрагменты статьи: Зинченко И.А.Регламентация показаний с чужих слов в уголовно-процессуальном законодательстве постсоветских государств / Зинченко И.А., Попов А.П. // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Иркутск, 2024. С. 57-62.
ВВЕДЕНИЕ
В отечественной теории уголовного процесса проблемы, сопряженные с использованием в доказывании показаний с чужих слов, традиционно рассматриваются в рамках доктринального анализа производных доказательств и их процессуальных источников [1, 2 и др.], хотя известны и специальные работы, посвященные данной тематике [например: 3]. Интерес специалистов в немалой степени стимулируют подходы, реализованные в рамках англосаксонского права и правоприменения, а также направления развития законодательства постсоветских государств, ранее составлявшего единое целое с советской правовой системой. Вместе с тем, далеко не все из суждений, встречающихся в современных исследованиях, представляются безупречными. В них нередко используется произвольное и надуманное толкование понятия производных доказательств, смешение производных доказательств как сведений с производными процессуальными источниками доказательственной информации. Уязвимым местом всегда была и остается недооценка значимости в доказывании производных доказательств, особенно тех из них, которые устанавливаются различными видами следов (понимаемых в широком смысле слова). Кроме того, зачастую не различаются конкретные ситуации, возникающие при получении и использовании показаний с чужих слов (когда, например, первоисточник сведений был или не был допрошен в досудебном производстве; когда он может или не может предстать перед судом). Порой допускается и некорректная трактовка норм позитивного права, в частности, мы не разделяем оптимизма авторов, полагающих, что в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) совершены прогрессивные преобразования по направлению к регламентации производных показаний [4, с. 151].
Не вполне удовлетворяют и высказываемые в литературных источниках предложения об изменениях и дополнениях уголовно-процессуального законодательства нормами, нацеленными на учет специфики использования производных показаний. Они зачастую обусловлены доктринальными представлениями не о позитивном праве, а о пребывающем в состоянии неопределенности грядущем законодательстве либо излишне наполнены гипертрофированными идеями о значимости научных изысканий авторов. Примечательно, однако, что независимо от предметной направленности приведенных и иных научных работ в них все громче звучат призывы к специальной регламентации статуса показаний с чужих слов также и в ныне действующем Кодексе [3, с. 111-139 и др.]. Именно поэтому в рамках настоящей статьи мы предпочитаем по возможности максимально воздерживаться от полемики с пишущими на эту тему авторами, сосредоточившись преимущественно на проблемах законотворчества. Основной вопрос: способны ли включенные в УПК РФ нормы плодотворно разрешать все возможные в доказывании ситуации, обусловленные оперированием производными показаниями, либо они нуждаются в корректировке?
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В реальном уголовном процессе, как и в любом другом юрисдикционном производстве, наличие в показаниях допрашиваемых лиц сообщений о том, что произносилось кем-то иным в обстановке вне уголовного производства (hearsay testimony) – явление распространенное и закономерное, ведь источники информированности граждан могут быть самыми разнообразными.
Когда в «чужих словах» встречаются сведения, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного дела, они проверяются, оцениваются и используются в доказывании на общих основаниях. В кодексах постсоветских государств на этот счет можно даже обнаружить и специальные предписания. Так, в ч. 4 ст. 103 УПК Республики Молдовы закреплено: «Если показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого основаны на сообщениях других лиц, эти лица также должны быть допрошены». (Несложно заметить – однозначная очевидность подобного рода правил порождает сомнения в целесообразности их нормативного воплощения).
Если же первоисточник чужих слов неизвестен, т. е. допрашиваемым лицом он не раскрывается или установлен быть не может, то картина меняется. Такие показания исключаются из доказательственного обращения. Гласящие об этом правила в той или иной форме закреплены в УПК всех государств, расположенных на постсоветском пространстве (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, ч. 3 ст. 105 УПК Республики Беларусь, п. 6 ч. 1 ст. 112 УПК Республики Казахстан и др.).
Что касается УПК РФ, то в него не включены нормы, закрепляющие дозволения и запреты на использование в доказывании производных показаний. Исключение составляют: (1) требование об известности источника их происхождения – ч. 2 ст. 75 УПК РФ и (2) правила оглашения в суде протоколов и фонограмм допросов, производных от первоначальных показаний – ст. 281 УПК РФ. Законодатель в данном случае как бы презюмирует, что если первоначальный источник прозвучавших в показаниях сведений известен, то их оценка, проверка и использование осуществляется по общим правилам работы с процессуальными источниками доказательств. В противном случае имеет место однозначная недопустимость показаний в силу упомянутого п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.
Практический интерес представляет ситуация, в которой первоисточник прозвучавших в показаниях чужих слов известен, но в силу непреодолимых факторов проверен на предварительном следствии и в суде (либо только в суде) быть не может. Попытки разрешить эту ситуацию (с различной степенью успешности) предприняты в уголовно-процессуальном законодательстве трех постсоветских государств – Грузии, Украины и Эстонии.
Обращение к нормам УПК названных государств обязывает учитывать то, что они встроены в правовую модель, отличающуюся от российской. Далеко не аутентичны они и между собой. Абстрагироваться от этого факта невозможно. Однако в рамках настоящей статьи мы ограничимся лишь теми специфическими чертами перечисленных кодексов, которые имеют отношение к предмету исследования.
УПК Грузии. Относительно УПК Грузии следует иметь в виду, что производство досудебных допросов в нем не предусмотрено. Их заменяют опросы – ст. 112 УПК, а в исключительных случаях – при невозможности вызова лица в грядущее судебное заседание – также и допрос, проводимый по ходатайству стороны следственным судьей («судьей магистратом»). Данное действие осуществляется по правилам, установленным для допросов судебных – ст. 114-118 УПК (более известное его наименование – «депонирование показаний"). Допросы же допускаются лишь в ходе судебного следствия.
Обратим внимание еще на одно немаловажное обстоятельство: во всех доступных нам русскоязычных изложениях УПК Грузии наименование его ст. 76 («არაპი რდაპირი») ошибочно переводится как «Косвенные показания». Это словосочетание трижды воспроизводится и в тексте статьи. Однако из содержания данной статьи однозначно следует, что речь в ней идет о показаниях вовсе не косвенных, а производных. Так, например, в ч. 1 данной статьи указанная разновидность процессуальных источников определяется как «показания свидетеля, основанные на информации, распространяемой другим лицом». Здесь надо принять во внимание, что используемый грузинским законодателем термин «ირიბი» (косвенный, непрямой) на титульном языке и в других языках может обладать и иными значениями. Например, одним из его синонимов выступает слово «опосредованный». Согласимся, в восприятии правоведа смысловой оттенок в нем другой. Отсюда следует – претензии должны быть предъявлены не к УПК Грузии, а к его переводам на русский язык. С точки зрения не словарного, а смыслового подхода наименование ст. 76 анализируемого Кодекса необходимо воспринимать и переводить как «Производные показания», а с позиций российской юридической фразеологии и функционального перевода мы бы отдали предпочтение еще более точному словосочетанию – «Показания с чужих слов».
В ч. 2 ст. 76 УПК Грузии говорится о допустимости использования в судебном доказывании «опосредованных» показаний лишь при условии указания допрашиваемым лицом первоисточника информации, идентификация и проверка которого представляется возможной, а в ч. 3 – о необходимости их подтверждения в суде другими доказательствами. Представляется очевидным – нормативные предписания, включенные в ст. 76 УПК Грузии, банальны в силу их очевидности для субъектов доказывания.
УПК Украины. Кодекс данного государства, как, впрочем, и ряд кодексов иных стран ближнего зарубежья, на наш взгляд, отчасти эклектичен. Лежащая в его основе следственная модель в ряде случаев искусственно дополнена нормами, олицетворяющими состязательные начала уголовного процесса. К ним примыкают и два десятка правил, наполняющих его ст. 97 «Показания с чужих слов». В осевом содержании положения этой статьи дублируют тривиальные установки, которые закреплены в ст. 76 УПК Грузии: необходимость тщательной проверки используемых судом производных показаний и их согласованность с другими собранными по уголовному делу доказательственными материалами. В нее также помещена и дефиниция анализируемой разновидности показаний, отличающаяся от формулировки, приведенной в УПК Грузии не только редакционно. В частности, данная понятийная норма предусматривает возможность существования показаний не только в устной, но также и "в письменной и иной форме".
Кроме того, в данную статью включены нормы, содержащие:
1) обстоятельства, которые «суд обязан учитывать» при использовании показаний с чужих слов без допроса первоисточника;
2) основания, позволяющие суду признать допрос лица невозможным (тяжелая болезнь, пребывание за границей, отказ от дачи показаний и др.);
3) запрет на использование показаний следователя, прокурора, сотрудника оперативного подразделения о содержании полученных ими сведений от допрашиваемых лиц в досудебном производстве.
На первый взгляд, существование перечисленных правил логично, поскольку в соответствии с законодательством Украины материалы досудебного расследования не направляются в судебную инстанцию. В суд представляются лишь обвинительный акт и справочные материалы – ст. 291 УПК Украины. Согласно ч. 4 ст. 95 УПК этого государства суд не вправе обосновывать судебные решения показаниями, полученными при проведении досудебных допросов. Их оглашение в суде закон не предусматривает (исключение сделано только для показаний депонированных). Однако содержание ст. 97 УПК данного государства в любом случае более напоминает методические рекомендации для судей, нежели структурную единицу кодифицированного нормативного акта.
Подобных правил, вряд ли реально используемых дознавателями, следователями, прокурорами и судами при производстве по конкретным делам, в данный Кодекс включено немало (например, ч. 1 и 2 ст. 96 «Установление достоверности показаний свидетеля»). Не случайно, в доступных нам научно-практических комментариях к анализируемой статье трудно отыскать содержательные рекомендации, которые могут почерпнуть штудирующие эти источники правоохранители.
УПК Эстонской Республики (далее – УПК ЭР). В уголовно-процессуальном законодательстве Эстонии проведены существенные преобразования норм, регламентирующих показания различных категорий допрашиваемых лиц, в том числе, показаний производных. В частности, в 2011 г. из ст. 68 УПК ЭР «Допрос свидетеля» была исключена ч. 5, прямо предусматривавшая допустимость использования в доказывании показаний с чужих слов, если первоисточник информации не может быть допрошен. Эта норма была заменена, на первый взгляд, весьма необычным требованием о недопустимости тех показаний свидетеля, «о которых он узнал посредством другого лица» – ч. 2.1 ст. 66 УПК ЭР, поскольку само по себе оно априори дезавуирует производные показания, первоисточник которых известен. Однако подлинные намерения законодателя Эстонии раскрываются в исключениях из данного правового предписания, предусмотренных этой же структурной единицей УПК ЭР. Они весьма примечательны, поскольку наиболее наглядно демонстрируют не только свою уязвимость, но заодно и ущербность норм о показаниях с чужих слов, закрепленных в УПК Грузии и Украины. В этих исключениях перечисляются четыре ситуации, допускающие использование производных показаний в судебном доказывании. (Заметим, что все эти позиции были заимствованы из ст. 803 Федеральных правил о доказывании Соединенных Штатов [5]).
В первой из них говорится о невозможности допроса первоисточника показаний по причине отказа от дачи показаний, тяжкого заболевания, неустранимых препятствий его явки в суд и др. (здесь сделана ссылка на ст. 291 УПК ЭР).
Во второй, – о взаимосвязи показаний допрашиваемого лица с обстоятельствами совместного с подсудимым совершения преступления.
В третьей, – о явных противоречиях показаний свидетеля интересам говорившего.
В четвертой, – о ситуации, когда «содержанием показаний является услышанное от другого лица об обстоятельствах, воспринятых непосредственно перед рассказом, в случае, если указанное лицо во время рассказа находилось еще под влиянием воспринятого, и отсутствуют основания полагать, что оно исказило истину».
Наше отношение к перечисленным нормам УПК ЭР заключается в следующем. Федеральные правила о доказывании США были разработаны для судей в качестве рекомендаций, используемых ими в работе с присяжными заседателями в конкретных судебных процессах. Они носят ситуативный характер, не поднимающийся на тот уровень обобщений, который свойственен языку нормативного акта. С точки зрения юридической прагматики нормы специализированных статей перечисленных кодексов не привносят ничего нового в правовые установления, вытекающие из общих правил доказывания. Это советы, подсказки, которые могут быть полезными в следственной и судебной практике, но нужны ли они кодифицированному нормативному акту? Традиции отечественного правоведения и правила юридической технологии склоняют нас к отрицательному ответу на этот вопрос.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С точки зрения юридической прагматики (да и здравого смысла) нормы специализированных статей УПК Грузии, Украины и Эстонской Республики, как в основных своих чертах, так и в деталях не привносят ничего принципиального нового для профессионалов в правовые установления, вытекающие из общих правил доказывания. С подобными рекомендациями можно познакомиться в любом приличном учебнике по курсу «Уголовный процесс» [например: 6, с. 472-475].
Руководствуясь изложенным, мы приходим к выводу о том, что нормы действующего российского законодательства создают достаточную правовую основу для работы с производными источниками доказательственной информации, включая и показания с чужих слов. К их числу, прежде всего, относятся правила собирания, проверки, оценки и использования доказательств – ст. 17, 74-80, 85-88 и др. УПК РФ.
Ключевыми в этих правилах выступают правовые установления, касающиеся непредвзятой оценки доказательств независимым судом (хотя, возможно, и обладающим не столь жестко заформализованными полномочиями, как это предусмотрено действующим законодательством). Аналогичные нормативные предписания, пусть и не всегда в совпадающей редакции содержатся также и в кодексах всех постсоветских государств.
Что касается позиций отечественных авторов, пишущих об укреплении процессуально-правового статуса производных показаний, то в известных нам научных источниках они, за редким исключением [например: 7, с. 46-47], ограничиваются лишь пожеланиями законодателю без приведения конкретных формулировок норм, которые могут быть учтены в законотворческой деятельности. В такой ситуации весьма затруднительно сделать более или менее достоверные выводы об их реальной ценности.
Нет сомнений в том, что у процессуально-правового института показаний наличествуют перспективы развития (хотя по большому счету его будущее, как и всего УСП в целом, труднопредсказуемо). Целесообразно, например, продумать вопрос о включении в УПК РФ норм, регламентирующих порядок депонирования показаний – досудебного допроса свидетелей и потерпевших по правилам судебных процедур, позволяющий обеспечить получение достоверной информации от лиц, в отношении которых существуют обоснованные предположения о невозможности их явки в судебное заседание [8 и др.]. Депонирование показаний, гарантирующее получение судом устных сообщений от их первоисточника, закреплено в подавляющем большинстве УПК постсоветских государств. В условиях развития состязательных начал досудебного и судебного производства неизбежна коррекция и отдельных процедур получения сведений от различных категорий допрашиваемых лиц [9 и др.].
Теория и практика уголовного производства не стоит на месте, поэтому наивно было бы исключать возможность рождения новых правил об использовании в уголовно-процессуальном доказательственном праве показаний с чужих слов. Однако копировать их в той форме, в которой они представлены в кодексах государств ближнего зарубежья, нет резона.
Список литературы:
1. Боруленков Ю.П. Юридическое познание и судебное доказывание: риторическая модель. М.: Юрлитинформ, 2023. 368 с.
2. Терехин В.В. К вопросу о допустимости показаний в уголовном процессе // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 1(25). С. 176-178.
3. Галяшин Н.В. Показания с «чужих слов» как производные доказательства в уголовном процессе: монография. М.: Проспект, 2017. 176 с.
4. Середнев В.А. К вопросу актуальности использования производных доказательств в уголовном процессе (политико-правовой аспект) // Вестник Нижегородского университета им. Н.А. Лобачевского. 2018 № 3. С. 149-156.
5. Федеральные правила о доказательствах Соединенных Штатов. 2010 // URL: https://www.law.cornell.edu/rules/fre
6. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Статут, 2021. 1328 с.
7. Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и комментарии к ней / под ред. А.С. Александрова. М.: Юрлитинформ, 2015. 304 с.
8. Зинченко И.А. Структура уголовно-процессуального института депонирования показаний, цель и основания его применения (компаративистский взгляд) / И.А. Зинченко, А.А. Попов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 1 (18). С. 301-308.
9. Зашляпин Л.А. Принцип уголовного процесса и модель правоотношений процессуального действия // Регулирование уголовно-процессуальных правоотношений: 20-летний опыт применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: сб. статей. СПб, 2023. С. 62-73.
»
- войдите для комментирования